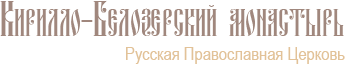Библиотека
Граф П.С. Шереметев "Зимняя поездка в Белозерский край в 1900 году"
Павел Сергеевич Шереметев (1871-1943 гг.) — историк и художник, сын графа Сергея Дмитриевича и Екатерины Павловны, урожденной Вяземской. Отец Павла Сергеевича был в дружеских отношениях с Николаем II и входил в число богатейших людей России. Семье Шереметевых принадлежали Фонтанный дом в Петербурге и подмосковные усадьбы Останкино, Остафьево, Кусково и Уборы. После Октябрьской революции Шереметевы не эмигрировали, а остались в России. П.С. Шереметев занял должность заведующего Остафьевским музеем, который был создан еще его родителями в 1899 году — к столетнему юбилею А.С. Пушкина. Здесь он и продолжал жить на правах наследника и бывшего владельца усадьбы. В разные годы Павел Сергеевич был в Остафьеве директором, хранителем, экскурсоводом, заведующим хозяйством, истопником, садовником. В 1930 году Остафьевский музей был ликвидирован, а семья Шереметевых выселена. Вплоть до своей кончины в 1943 году Павел Сергеевич вместе с женою и малолетним сыном Василием (позже художником) проживал в одной из башен московского Новодевичьего монастыря. По примеру отца Павел Сергеевич рано увлекся отечественной стариной и был действительным членом и членом-корреспондентом разнообразных ученых обществ и комиссий, в частности, уже после 1917 года - Общества по изучению русской усадьбы и Пушкинской комиссии.
Мы выехали из Москвы 21 декабря 1900 года. Поезд отошел в полночь. Позади остался вокзал Ярославской железной дороги с его неуклюжими колоннами из лабрадора, некстати связанными с бедным потолком станции, талантливыми картинами Коровина из жизни русского севера, потерянными в грязных залах, и портретом строителя Архангельской дороги работы Цорна. Мы удобно поместились в большом отделении и проспали до утра, проснувшись перед самым Ярославлем (...)
Утром 23 декабря лошади были уже рано поданы и нас дожидались. Надо было спешить, чтобы приехать на место пораньше, а путь 120 верст с лишком. Ямщики везли отлично и мчали от станции до станции полным ходом. Вот пролетели мимо Спасо-Прилуцкого монастыря с его длинными стенами и склонившейся колокольней и садом внутри монастыря, где похоронен поэт К.Н. Батюшков (...) Замелькали церкви высокие, каменные, белые, пятиглавые, часто одного облика. Их было множество. Мы въезжали в равнину Кубенского озера. Вот и оно показалось, покрытое ровным белым покровом. Широкие дали уходили вперед. Я не заметил, как прилетела после 28 верст скачки первая станция — село Кубенское, с двумя церквами и базарными каменными лавками (...)Вторая станция, также 28 верст, все вдоль длинного Кубенского озера. По пути встречались подводы с кожами. Вдали показался на озере Каменный остров с церковью, прежде Спасо-Каменным монастырем. Мы въехали в село Новленское в базарный день. Множество народа гуляло на улице посреди села. Женщины в богатых шубках зеленого, малинового и других цветов бархата, повязанные широкими цветными, яркими, большею частию красными, платками на головах. Две или три были даже в шляпках (...)
Третья станция была Гора, 34 версты. Уже темнело. Вдали где-то очень далеко на горизонте стали видны едва заметные клубы, дыма. Это несколько заводов: лесопильный, бульонный и другие. От Горы до Устья, цели нашего пути, считают также около 34 верст. Когда мы подъехали, уже было совсем темно (...)
На другой же день, 24 декабря, мы выехали не рано, около 11 часов, в лес, верст за восемь. Пересекши озеро и оставив направо на горе церковь Раменье, скоро въехали в лес. На деревьях висела небольшая гиря, так называют нависшие на ветвях хлопья снега. Узкая извилистая дорога побежала корытом — ровная, мягкая, а по сторонам бесконечный хвойный лес (...) Наслаждение... Вдыхаешь всей грудью этот животворный воздух. Далеко от шума и пошлой суеты. Тишина... Только скрипят сани, тыкаясь по сторонам на частых поворотах извилистой дороги, и падают клочья снега с нависших ветвей (...)
25 декабря собрались к обедне. Сперва думали ехать в ближайший Ферапонтов монастырь, от которого Устье в 7 верстах, но, подъехавши, услыхали, что только начинают благовестить. Тогда решили ехать в Кирилло-Белозерский. Переехали через Бородавское озеро и, миновав целый ряд стоящих на берегу ветряных мельниц, быстро сделали остававшийся пятнадцативерстный путь и скоро увидали вдали, в открытых со всех сторон полях, величественные белые крепостные стены знаменитого в русских летописях монастыря с его внушительными башнями и главами монастырских церквей. Два года назад минуло 500 лет, как преподобный Кирилл из московского рода Вельяминовых основал эту обитель. Монастырь лежит у самого берега Сиверского озера, теперь снежной равнины, при впадении реки Свияги. Наш расчет оказался ошибочным. В Кириллове служили рано, и обедня давно отошла. Мы сказали встречному монаху, что хотели бы отслужить молебен. Он отвечал: «А вот сейчас в колокольчик побрякаем». Мы любопытствовали, почему в Ферапонтове обедня только еще начиналась, а здесь давно кончилась. Монах отвечал: «Да там отец Павел обедню восемь часов служит...» На звон колокола скоро явился священник с одним послушником. Мы отстояли молебен у раки преподобного Кирилла. Служба ничем не отличалась от обыкновенной, только тропарь пропели каким-то особенным напевом. «Яко крин пустыни Давидски процвел еси, отче Кирилле, злострастия терние искореняя»,— пропели монахи, видимо, древним напевом.
Мы попросили разрешения осмотреть подробно монастырь. Пришел о. казначей, еще не старый иеромонах, который приветливо пошел нас водить. Прежде всего мы зашли в церковь, бывшую трапезную. Здесь интересного, кроме самых стен, ничего не было, все было новое. Потом пошли в ризницу. Тут, несмотря на холод и небольшой свет, мы накинулись на открывшиеся перед нами сокровища и при беглом осмотре не могли не обратить внимания на несколько великолепных чаш — из них одна дар Грозного,— кадил, панагий, крестов, малых складней. Мы так стремительно накинулись на эти все небольшой величины предметы, что о. казначей, кажется, не на шутку испугался — того гляди и выхватят незаметно какую-нибудь драгоценность: посетители с «археологическими» стремлениями народ опасный. К сожалению, приходилось в душе сознаться, что явный страх сопровождавшего нас о. казначея мог иметь основания... Разве мало исчезло таким образом сокровищ у нас и перешло в частные руки?! (...)
Холодный собор с величественным иконостасом и живописью по стенам произвел тягостное впечатление. Вся стенная живопись возобновлена, как это видно из надписи на стене, в 1838 году... Теперь вместо старого письма вновь худо прописанное ярко лоснится от масляной краски. Это истребление тем более обидно, что стенная живопись была частью написана на пожертвованные Федором Ивановичем Шереметевым, в начале царствования царя Алексея Михайловича, 500 рублей. Только при боковом входе уцелел кусочек древней фресковой живописи, да входные двери аркой, с колонками. Иконостас также весь позолочен, а на знаменитой иконе Божией Матери Одигитрии налево от царских врат сделана огромная уродливая деревянная золоченая рама, часть которой скрывает великолепные, старые, серебряные, кованые царские врата — дар царя Михаила Феодоровича 1643 года. Прежний вход в собор был посредине, а не с левой стороны, как теперь, но паперть сняли и воздвигли целую каменную четырехугольную пристройку. При этой перестройке были уничтожены многие могилы лиц, погребенных под ее сводами. Так исчезли все могилы Шереметевых. Исчезли и могилы князей Телятевских. Сохранились лишь князей Воротынских (...)
Утром 30 декабря стреляли в цель из штуцеров, пробуя их, готовясь на медведя, а после завтрака поехали в Ферапонтов. Шесть куполов монастыря еще издали показались, мелькая среди кучки сосен, влево от дороги (...)
Приехав, мы прямо обратились к священнику. Он прежде всего повел нас по лестнице вверх в Богоявленскую церковь над монастырскими входными вратами, которая была предназначена для патриарха Никона, и находящуюся рядом с ней церковь преподобного Ферапонта. Два алтаря поставлены рядом. Здесь ничего не сохранилось древнего, кроме сводов и окон. Оттуда мы прошли в небольшую церковь во имя преподобного Мартиниана, где покоятся его мощи и погребен его ученик Иоасаф, в мире князь Оболенский. Здесь остановила наше внимание икона страстей Божией Матери — складень, но вся церковь невзрачна. Масляная живопись на стенах внутри и при входе безобразная. Другое впечатление оставил собор. Здесь повеяло древностью, но вместе с нею холодом. Все стены были покрыты инеем. Прекрасные входные двери, изразцы, замечательная стенная живопись, великолепны сохранившиеся прекрасного письма иконы, особенно нижний ярус, паникадило, дар царя Михаила Феодоровича, деревянные шкафчики с резьбой, словом — все отражало одно прошлое без примеси оскорбительной новизны. В ризнице любовались мы прекрасной работы плащаницею, шитой шелками и золотом, с греческой надписью; видели полотняную ризу преподобного Мартиниана, заметили старый дубовый стол, длинный, с украшениями внизу, а по стенам ряд изразцов с изображением какого-то животного, закрашенных белой краской. На окнах грудой лежало множество икон, иные со стертыми ликами (...)
Обойдя все, мы направились к священнику, о. Павлу Разумовскому, по его приглашению. Он сообщил нам, что он священствует здесь 34 года и что его отец также священствовал здесь же. В его комнатах нашли любопытный акварельный рисунок монастыря, рисованный в 1835 году каким-то штатным служащим, от которого достал его священник, и любопытный тем, что на нем видны несуществующие постройки монастыря. Уже темнело, когда мы стали собираться обратно.
Следующие дни мы уже не ездили осматривать окрестности. Днем охотились, а вечер проводили в знакомстве с другими памятниками нашей старины, в слушании и записывании песен и заговоров, знакомились с народным словесным творчеством. Так составилось довольно большое собрание записей. Быть может, записанное не представит чего-либо нового, неизвестного, ибо многое из этой области было с давних пор издаваемо (...)
На другое утро, 31 декабря, встали в пять часов утра, чтоб ехать на медведя. Выезд из Устья был еще в темноту. Едва виднелись предметы сквозь серо-голубую мглу и белело серебро покрытых снегом деревьев, да чернели ели. Светло-розовой лентой заря блеснула вправо. Широко легла дорога, местами с горы на гору. Это Каргопольский тракт. По краям стеной встали ели и сосны. Рассветало. Замелькали деревни, часовни, старой постройки избы. На полдороге миновали реку Ухтому. На ее берегу высилась заросшая лесом горка с приютившейся часовенкой. На остановках, при перемене лошадей, мы входили в избы. Они навеяли много мыслей. Как далеко ушли современные постройки наших изб московских в сторону пошлости и уродства! Правда, в них горит керосиновая лампа, правда, они содержатся чище, но где прежние размеры, где художественная форма столов, лавок, полок, шкафчиков? Где наконец толщина леса? Соединение удобства культуры с древним изяществом — вопрос нашего времени. Почему наше истинное художество не спускается к предметам обихода? Какая благодарная почва для художественного вкуса! То, что делается в самое последнее время, не совсем удовлетворяет. Попытки иногда отдают игрушкой, очень красивой, но фантастичной. От изб невольно переходишь к другим отраслям русского искусства. Отчего нет у нас, или мало, систематических изданий и исследований по иконописи, тканям, изразцам, утвари, резьбе по дереву и многому другому? С такими думами наконец приехали на место (...)
В день нового 1901 года, отправились мы на оленей в дикие места по берегам реки Еломы. Охота была неудачна (...)
Через несколько дней, 2 января, мы посетили (...) Пречистенское и прежде всего зашли к священнику. Он с готовностью согласился показать нам церковь. Мы узнали, что она существует от времен древних, что ей едва ли не больше 400 лет, что она была прежде деревянная, в честь Успения Божией Матери. Ныне существует новейшая. Прежде она писалась: Успенье, что на Вещеозере, Вологодской губернии, Белозерского уезда, Чарондской округи. Мы заметили несколько старых любопытных икон, между ними очень длинный Деисус. Внимание наше привлек также прекрасной древней работы дубовый стол (...)
Дочь священника хлопотала за самоваром. Мы сообщили, что покупаем полотенца и просили оповестить. Через несколько минут вся комната наполнилась бабами и девушками, которые наперерыв старались сбыть нам свои полотенца. Нам сказали, что никто никогда не заглядывал для этой цели, только однажды несколько лет назад кто-то скупал полотенца для продажи... в Англию (...)
В тот же вечер к нам набежало со всех сторон с полотенцами пропасть продавщиц. Собралось в кухне так много народа, что мы впускали по одной и могли делать более строгий выбор — брать только новое и типичное. «Расшевелили наше гнездо»,— говорили они нам. Мы пересмотрели несколько сот узоров и выбрали 60 с лишним. Все полотенца за оба дня были из двух волостей: Петропавловской и Пречистенской. Из деревень Великий двор, Подосенки, Погорелая, Китрино, Курище и самого Пречистенского. Куплено всего 27 длинных полотенец; из них два белых, очень редко встречавшихся, 12 коротких, их называют утиральниками; 44 полосок и обрезков и 1 рубашка. Множество предложений в такой короткий срок было следствием довольно высокой цены, которую мы платили. Кроме того, полотенца эти, как нам объяснили, уже выходят из моды (...)
Одно время думали ехать обратным путем, чтобы не повторять старой дороги. Именно — из Петропавловского через Печеньгу, Чаронду, Вожгу, Тичино, но потом решили вернуться опять тем же путем. На другой день выехали в Устье. По дороге домой был еще неудачный круг на медведя, а вечером приехали в Устье. Там ночевали и на другой день выехали. Я успел купить принесенную отцом хозяина деревянную большую чашу, так называемый скобкарь. Чаша эта, по словам старика, старинная, ей много больше ста лет. Иногда шутили, говоря: «Давайте по скобкарю на брата!»
Выехали 4-го утром и быстро помчались к Вологде. Опять лесом, потом по открытым полям. Вдали, но с другой стороны остался Ферапонтов монастырь, рисуясь на горизонте своими едва заметными зубчатыми куполами, вдали гора Цыпина. Пересекли канал принца Александра Вюртембергского. Какое разнозвучие: Белоозеро и Вюртемберг! Одинокая баржа, замерзшая во льду, дожидалась весны, чтобы снова пуститься в путь (...)
* * *